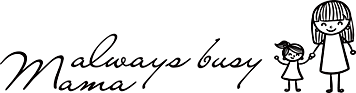Безудержная страсть, воплощенная в жизнь Ким Бейсингер и Микки Рурком в фильме «9 ½ недель», – это не выдумка сценаристов. Роман, по которому был снят фильм, – не фантазия автора. Эта история написана на основе реальных событий

Никто не знал, кто такая Элизабет Макнилл, столь откровенно описавшая опасную любовную игру на книжных страницах. Лишь спустя много лет выяснилось, что Элизабет – это псевдоним матери-одиночки Ингеборги Дэй, редактора популярного журнала Ms, а главная героиня романа и есть сама Ингеборга. На протяжении двух месяцев она переживала настоящую страсть, с головой окунулась в водоворот наслаждений, а после долго приходила в себя и восстанавливала душевные и физические силы в больнице...
Накануне выхода мирового бестселлера, публикуем отрывок из культового романа.

«Мы с ним занимались любовью впервые, и он крепко держал мои руки над головой. Мне это нравилось. Мне нравился он. Он был угрюм, и на меня это производило впечатление — это казалось мне романтичным. Он был веселым, ярким, был интересным собеседником; умел доставлять мне удовольствие.
Во второй раз он поднял мой шарф, который я бросила на пол, раздеваясь, улыбнулся и сказал: «Можно, я завяжу тебе глаза?» Никто раньше не завязывал мне глаза в постели, и мне это понравилось. Он начал нравиться мне еще сильнее после второй ночи, и утром, умываясь, я не могла сдержать улыбку: мне попался удивительно умелый любовник.
В третий раз он снова и снова останавливался, когда мгновение отделяло меня от оргазма. Я опять была близка к тому, чтобы потерять сознание, и услышала собственный голос, который взмыл над кроватью и взмолился, чтобы он продолжал. Он подчинился. Я начинала влюбляться.
В четвертый раз, когда я была уже достаточно возбуждена, чтобы не замечать происходящего вокруг, он тем же шарфом связал мне руки. В то утро он прислал тринадцать роз ко мне в офис».

«Сейчас воскресенье, приближается конец мая. Днем мы встретились с моей подругой, которая почти год назад уволилась из фирмы, в которой я работаю. К нашему обоюдному удивлению в последние месяцы мы видимся чаще, чем когда работали вместе. Она живет в центре, и в том же районе проходит уличная ярмарка. Мы гуляем, останавливаемся возле прилавков, разговариваем, едим. Она купила старенькую, очень симпатичную серебряную коробочку для пилюль в лавке, где продавались ветхая одежда, ветхие книги, разрозненный хлам с пометкой «антиквариат» и массивные полотна, изображавшие скорбящих женщин с потрескавшейся краской в уголках розовых губ.
Я пытаюсь решить, стоит ли пробираться полквартала в противоположном направлении к прилавку, где отыскала кружевную шаль, которую моя подруга назвала тряпьем. «И правда, тряпье, — громко говорю я ей в спину, надеясь перекричать шум толпы. — Но представь — если ее отстирать и заштопать…». Она оглядывается через плечо, прикладывает ладонь к уху, показывает на женщину в огромном мужском костюме, которая с яростью колотит по барабанам; закатывает глаза, отворачивается. «Постирать и починить, — кричу я. — Как тебе кажется, стоит ее стирать? Думаю, я вернусь и куплю ее, у нее есть потенциал…». «Тогда лучше вернуться, — произносит голос у меня над ухом, — и поскорее. Кто-то мог уже купить ее и постирать прежде, чем подруга услышит тебя в этом шуме».
Я поспешно оборачиваюсь и бросаю недовольный взгляд на человека за моей спиной, затем снова пытаюсь докричаться до своей подруги. Но я в буквальном смысле застряла. Толпа, и без того еле передвигавшая ногами, окончательно замедлила ход. Прямо передо мной — дети не старше шести лет, все трое с подтаявшим мороженым, женщина справа размахивает палочками с небезопасным для меня энтузиазмом, а к барабанщице присоединился гитарист, и их слушатели застыли в восхищении, парализованные едой, свежим воздухом и хорошим расположением духа. «Эта ярмарка первая в этом сезоне, — произнес голос у меня над левым ухом. — Только здесь удается побеседовать с незнакомцами, иначе зачем вообще сюда приходить? Я по-прежнему считаю, что нужно вернуться и купить, что бы это ни было».
Светит яркое солнце, хотя совершенно не чувствуется жары. Воздух пахнет нежно и тонко; небо прозрачно и чисто, как над маленьким городком где-нибудь в Миннесоте. Средний ребенок передо мной только что по очереди лизнул мороженое у каждого из своих друзей. Это самый прекрасный из всех возможных воскресных дней. «Всего лишь облезлая шаль, — говорю я. — Но все-таки тонкой ручной работы, а стоит четыре доллара — как в кино сходить, так что, думаю, куплю». Но путь назад закрыт. Мы стоим напротив друг друга и улыбаемся. На нем нет солнечных очков, он щурится. Волосы падают ему на лоб. Его лицо становится очень привлекательным, когда он говорит; и еще привлекательнее, когда улыбается. Он, наверное, ужасно получается на фотографиях, думаю я, по крайней мере, если пытается делать серьезное лицо. На нем немного потрепанная бледно-розовая рубашка с закатанными рукавами; мешковатые штаны цвета хаки. «Как бы то ни было, похоже, он не гей», — думаю я. Эти штаны — один из признаков (хотя не очень надежный). И — теннисные туфли без носков. «Я провожу вас туда», — говорит он. «Вы не потеряете свою подругу, все это тянется на пару кварталов, не больше, вы рано или поздно встретитесь, если только, конечно, она не захочет совсем уйти». «Не захочет, — говорю я. — Она живет недалеко отсюда». Он начал плечом прокладывать себе путь туда, откуда мы пришли, и, повернув голову, сказал: «Я тоже. Меня зовут…»

«Сегодня четверг. Мы поужинали в ресторане в воскресенье и в понедельник, пообедали у меня дома во вторник, в среду поели мясной нарезки на вечеринке моей коллеги. Сегодня он пригласил меня на ужин к себе. Мы разговариваем на кухне, пока он режет салат. Он отказался от моей помощи, налил нам по бокалу вина и только успел спросить, есть ли у меня братья или сестры, как зазвонил его телефон. «Знаешь что, нет, — произносит он кому-то в ответ. — Нет, сейчас неудачное время, правда. Говорю же, эта херня может подождать до завтра….» Во время долгой паузы он качает головой и делает мне выразительные гримасы. Неожиданно он взрывается: «Да Господи Боже! Ну хорошо, приходи. Но два часа, не больше, если не уложишься в два часа, то пусть идет к черту, у меня есть планы на вечер…»
«Вот придурок», — стонет он, недовольно и глуповато, — «Хоть он уже исчез из моей жизни. С ним приятно выпить пива, но у нас с ним нет ничего общего, кроме того, что мы играем в теннис в одном и том же месте и работаем в одной фирме, а он постоянно не успевает и потом вынужден осваивать интенсивный курс, как в школе. Он не слишком умный и совершенная тряпка. Он зайдет в восемь — как обычно, какое-то дело, которое нужно было сделать две недели назад, и теперь он в панике. Мне ужасно жаль. Но я отведу тебя в спальню, посмотришь телевизор».
«Я лучше пойду домой», — говорю я. «Нет, не пойдешь, — произносит он. — Не уходи, я боялся этого больше всего. Слушай, мы поедим, ты чем-нибудь займешь себя на пару часов, позвонишь маме, что угодно, а потом мы прекрасно проведем время, когда он уйдет, будет только десять часов. Хорошо?» «Я редко звоню маме, когда мне нужно убить пару часов, — говорю я. — Я вообще-то ненавижу убивать время, жаль, что нет с собой бумаг, я могла бы поработать…» «На любой вкус, — произносит он, — все, что пожелаешь, он к твоим услугам», — и сует мне под нос свой кейс. Ему удается рассмешить меня.
«Ну ладно, — говорю я. — Найду что-нибудь почитать. Но я пойду в спальню, и не хочу, чтобы твой друг даже подозревал о том, что я здесь. Если он не уйдет до десяти, я выйду с метлой и простыней на голове и устрою непристойные танцы». «Отлично», — он широко улыбается. «Телевизор я все равно принесу туда, на случай, если тебе станет скучно. А после ужина сбегаю в киоск, в квартале отсюда, и принесу тебе пачку журналов — чтобы ты почерпнула оттуда пару непристойных жестов, до которых не додумаешься сама». «Благодарю», — отвечаю я, и на его лице появляется усмешка».